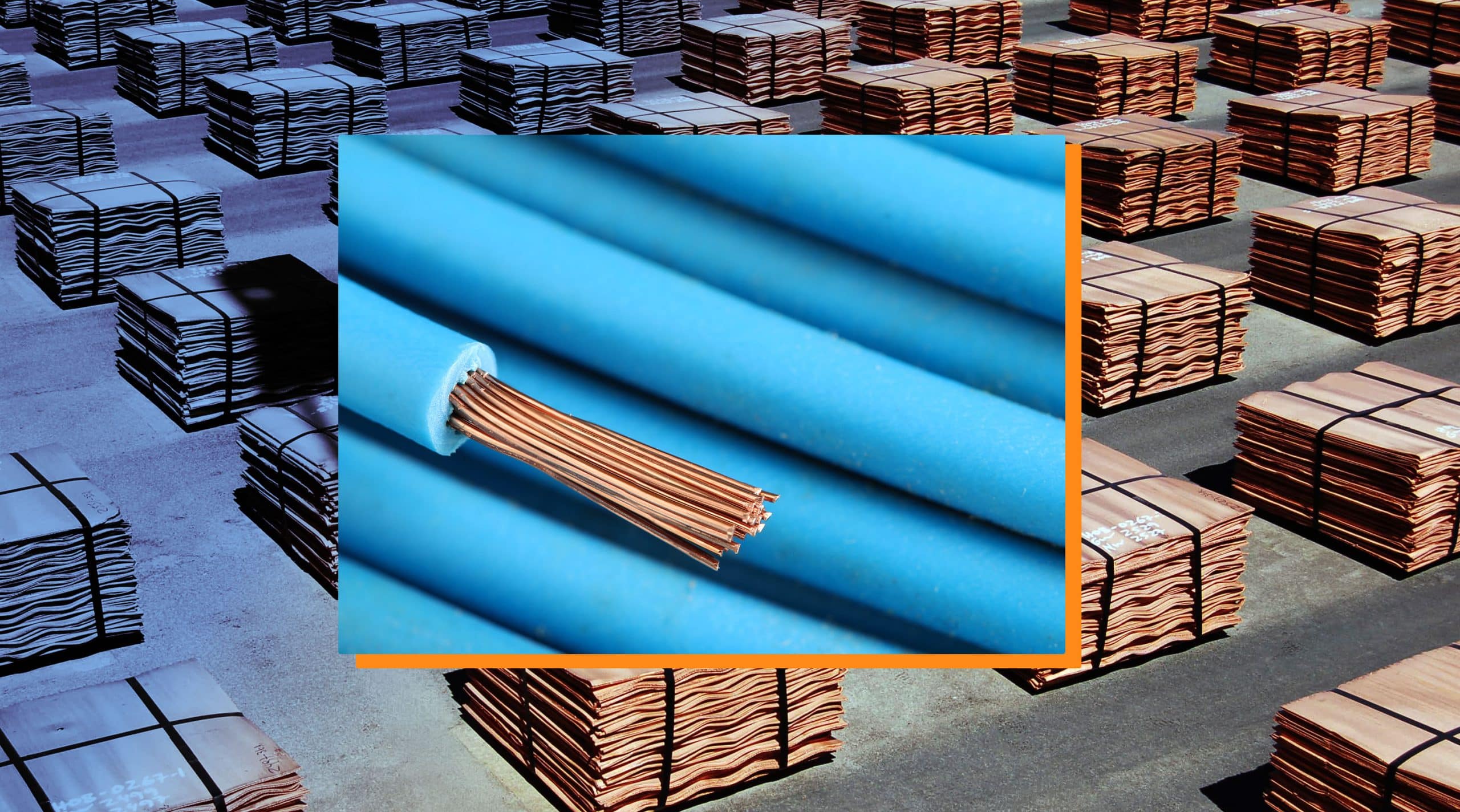Еще в конце 1950-х годов Иэн Бертон, географ из Чикагского университета, столкнулся с тревожной проблемой, связанной со дамбами. Эти дорогостоящие и капиталоемкие инженерные сооружения, которые инженеры Армейского корпуса США предпочитали для защиты от наводнений на больших речных поймах, хорошо справлялись с умеренными объемами воды. Однако они давали людям ложное чувство безопасности. После возведения дамбы люди начинали активнее строиться и переселяться на защищенную территорию. А когда в итоге наступало сверхмощное наводнение, прорывавшее или переполнявшее дамбу, катастрофа могла нанести больший ущерб имуществу и вызвать больший хаос, чем если бы инженеры вообще не вмешивались.
Этот парадокс стал классическим уроком того, как не следует приспосабливаться к природным опасностям, угрожающим рукотворной среде. Он также послужил важным предостережением для еще более масштабного набора бедствий и дилемм, вызванных изменением климата. (Проблема стала очевидной, когда в 2005 году дамбы Нового Орлеана дали сбой во время урагана «Катрина», затопив части Нижнего Девятого района водой высотой до 15 футов по некоторым оценкам. Этот шторм также был усугублен меняющимися климатическими условиями и ростом уровня моря).
Бертон начал заниматься проблемой изменения климата в 1990-х годах. Он включился в зарождающуюся, но тогда еще не совсем развитую область, известную как «адаптация к изменению климата»: изучение и разработка политики того, как мир может подготовиться и приспособиться к новым опасностям, вызванным потеплением планеты. Среди коллег Бертона, по его словам, «я был единственным, кто вызвался» работать над адаптацией.
Большинство других исследователей изменения климата были заняты вопросами о том, как сократить выбросы углерода, перегружающие атмосферу Земли — это направление исследований называлось «смягчение последствий изменения климата» (митигация). Но Бертон считал, что люди также должны учитывать рискованные и нестабильные условия, которые могут возникнуть в будущем, чтобы не начать строить недостаточные дамбы, неадекватные морские стенки или применять другие необдуманные стратегии совладания, которые могут усугубить ситуацию позже.
В тот момент он также столкнулся с областью противоречий и недопонимания, которые, возможно, в конечном итоге сдерживали работу по изменению климата на годы, а то и десятилетия. Некоторые климатологи считали, что любые разговоры об адаптации отвлекают от работы по предотвращению загрязнения атмосферы: это звучало не столько как механизм преодоления, сколько как капитуляция. «Когда вы приходили и выступали за адаптацию, люди, занимающиеся митигацией, говорили: „Уходите, вы нам не нужны“, — вспоминает он сейчас с легкой усмешкой. — „Если вы говорите, что нам нужно адаптироваться, значит, вы подрываете наш тезис. Поэтому мы предпочитаем вас не слышать. Вы — враг“».
По сути, эксперты с обеих сторон пытались проложить путь для выживания и благополучия человечества перед лицом растущего глобального кризиса — но они не всегда работали сообща.
Как минимум с конца 1980-х годов, еще до того, как последствия изменения климата стали столь очевидными и ощутимыми, ученые понимали, что человечество уже выбросило в атмосферу столько углекислого газа, что всем, вероятно, придется ощутить потепление позже — даже если они еще не знали всей серьезности этих последствий. Из-за вероятного «временного лага между выбросами и последующим изменением климата» мир «уже может быть обречен на определенную степень изменений», — указал Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), ведущий международный научный орган, изучающий этот кризис, в своем первом основном докладе в 1990 году (писала).
Следовательно, адаптация может быть необходимой, заключалось в докладе. В 1993 году, когда Билл Клинтон стал президентом, Управление по оценке технологий Конгресса (которое больше не существует) опубликовало отчет, в котором консультировались десятки ученых и экспертов: «Если изменение климата неизбежно, то неизбежна и адаптация к изменению климата», — гласило оно. Сокращение выбросов углерода по-прежнему оставалось важным средством, но, как утверждали авторы, людям следовало готовиться к переменам и неопределенности, особенно при работе с «долгоживущими сооружениями или медленно адаптирующимися природными системами».
Однако существовали и многочисленные разногласия относительно того, следует ли адаптироваться и как это вообще понимать. В начале 1990-х годов, когда международное дипломатическое сообщество приняло один из важнейших договоров о глобальном потеплении — Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая позже привела к Парижскому соглашению 2015 года, — многие лидеры из менее развитых стран Глобального Юга, особенно островных государств, уже настойчиво требовали финансовой и технической помощи с адаптацией. Последствия изменения климата сильно ударят по этим странам, вызвав затопление больших территорий Бангладеш и поставив под угрозу такие островные государства, как Мальдивы, катастрофическим подъемом уровня воды.
Но более развитые страны Севера пытались уклониться от этих обсуждений из опасения собственной финансовой ответственности, вспоминает социолог Лиза Схиппер, которая присутствовала на многих этих переговорах в начале своей карьеры. «Так что все, что могло создать впечатление их ответственности, вызывало реакцию: „О, закрой эту дверь“».
В конечном итоге Глобальный Юг преуспел в получении обязательства в договоре «оказании помощи развивающимся странам-участницам, особо уязвимым к неблагоприятным последствиям изменения климата, в покрытии расходов на адаптацию». Однако вопросы о том, сколько Север должен Югу за климатический ущерб, оставались спорной темой на международных переговорах на протяжении многих лет.
Также в 1980-х и 1990-х годах некоторые ультраправые группировки и отраслевые лоббисты, в том числе печально известная промышленность, сжигающая ископаемое топливо, начали распространять климатическую дезинформацию, пытаясь дискредитировать научные исследования, доказывающие как причины, так и последствия изменения климата. Многие из этих групп отказывались обсуждать адаптацию, поскольку это потребовало бы признания того, что планета действительно нагревается.

Напротив, большинство ученых, занимающихся адаптацией, считали сокращение выбросов жизненно важным. Однако были и некоторые голоса, например, Джесси Аусубель, исследователь из Рокфеллеровского университета, который утверждал, что человечество приспособляемо и уже «климатически защищает» общества. Человеческие системы становятся «менее уязвимыми к климату», — писал Аусубель в комментарии 1991 года в журнале Nature, поскольку экономика и занятость смещаются в сторону помещений. По его словам, общества должны сосредоточиться на «изобретательности, экономической мощи и административной компетентности, которые делают многочисленные технологии, полезные для адаптации к климату, доступными для большинства людей». (В том же году он обсуждал важность декарбонизации в другой статье.)
Вице-президент Эл Гор в своей книге 1992 года «Земля на чаше весов» (Earth in the Balance) резко отреагировал на идею о том, что «мы можем адаптироваться практически ко всему», казалось бы, наложив тень на все направление — назвав это «своего рода ленью, высокомерной верой в способность успеть спасти свои шкуры».
Некоторые исследователи адаптации теперь говорят, что вся эта разобщенность, возможно, помешала усилиям по борьбе с изменением климата на ранних этапах и вызвала задержки, из-за которых мир теперь вынужден бороться с жарой, лесными пожарами, штормами и нестабильностью.
Поляризация адаптации и митигации также могла создать «слепые зоны», которые затрудняли продвижение политик по охлаждению планеты. Во-первых, ученые, изучавшие выбросы и атмосферу, как правило, были экспертами в различных областях естественных наук — таких как физика, химия и океанография. Специалисты по адаптации часто приходили из областей, связанных с человеческими системами и их слабостями — управление чрезвычайными ситуациями, география, городское планирование, социология. Первая группа ученых создавала сложные модели глобальной атмосферной системы и пыталась делать прогнозы, основываясь на предположениях о том, что люди могут решить сделать. Политики и дипломаты, пытавшиеся интерпретировать эти модели, иногда приходили к чрезмерному оптимизму — отчасти потому, что мир так успешно поступил в конце 1980-х, запретив газы, разрушающие озоновый слой Земли. Но изменение климата — гораздо более сложная проблема, требующая отказа от ископаемого топлива, которое питало значительную часть мировой экономики. Эта проблема требовала столкновения с человеческой «неупорядоченностью» и сложностью.
По мере того как мир смещался в сторону работы по адаптации, «мы поняли, что нужны модели принятия решений — что это проблема решений, а не проблема науки», — говорит Томас Даунинг, который начинал свою карьеру с изучения реагирования на стихийные бедствия, а затем перешел к исследованиям в области адаптации в 1990-х годах. Ранние глобальные прогнозы изменения климата «моделировали очень идеализированный мир, как будто изменение климата — это лишь одна маленькая деталь, с которой можно повозиться». Если бы эксперты по адаптации и митигации объединились, возможно, они бы лучше поняли, как противостоять стойкой и запутанной глобальной политике. Возможно, они бы раньше преодолели больше препятствий.
Как профессиональная область, адаптация к изменению климата оставалась в пренебрежении, неправильно понимаемой и малочисленной до начала 2000-х годов, когда Лара Хансен, эколог по образованию, начала работать над этой темой для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Хансен и ее коллеги шутили, что все мировые эксперты и исследователи по адаптации «могли бы поместиться в лифте». Но вскоре эта область начала бурно расти. Во-первых, стало очевидно, что выбросы не сокращаются — особенно после того, как администрация Джорджа Буша-младшего в 2001 году объявила, что не будет выполнять Киотский протокол, еще одно международное соглашение, призванное подтолкнуть страны к сокращению атмосферного углерода.
Бездействие президента внесло разлад в международные переговоры; отчасти из-за этого, когда ООН разработала еще один договор под названием Марракешские соглашения, в нем было гораздо больше положений об адаптации, чем прежде. Если США собирались продолжать выбрасывать углерод в небо без ограничений, то всему миру придется адаптироваться к гораздо большему числу проблем.
Однако экологические группы по-прежнему часто колебались, погружаясь в эту тему, — что, по мнению Хансен, было упущенной возможностью. «Я давно говорю, что адаптация — это „вводный наркотик“ для митигации. Потому что, как только вы увидите, насколько велика будет проблема для вашего сообщества и насколько сильно придется изменить ваш образ жизни, — говорит она, — внезапно это вызывает чувство: „Ну, это отстой. Было бы намного проще просто прекратить выбрасывать углекислый газ в атмосферу“».
В 2006 году в бальном зале отеля во Флориде она провела семинар для пары сотен человек по сохранению коралловых рифов, включая представителей коммерческого рыболовства и туристического бизнеса, которые были не так хорошо знакомы с последствиями изменения климата. В тот вечер в местном театре организаторы семинара показали климатический документальный фильм Эла Гора «Неудобная правда» (An Inconvenient Truth) и видеоролик, имитирующий будущие наводнения в Южной Флориде. «Я сфокусировала его на Флоридских ключах, — вспоминает Хансен, — и можно было увидеть, что при подъеме уровня моря на два метра и штормовом нагоне урагана первой категории, единственным, что останется стоять на Флоридских ключах, будет пара мостов и кладбище Ки-Уэста». Аудитория попросила ее повторить показ три раза. После этого, по словам Хансен, она услышала о гораздо большем интересе к усилиям по митигации со стороны жителей региона.
В последующие годы число специалистов по адаптации продолжало расти в геометрической прогрессии. В 2008 году Хансен стала соучредителем организации EcoAdapt, которая служила центром сбора отчетов и уроков по адаптации, а также площадкой для привлечения экспертов со всей страны. Когда администрация Обамы потребовала от федеральных ведомств разработать планы адаптации, это вызвало всплеск активности и в других учреждениях. «На самом деле это, вероятно, больше всего заставило штаты и местные органы власти задуматься об этом», — говорит Хансен.
Однако работа по адаптации, вероятно, все еще страдает от ограничений, которые сопровождали ее с самого начала. Инфраструктура, например, строится с учетом долгих сроков, а задержки в понимании и принятии ситуации означают, что планировщики не успели наверстать упущенное. Бертон отмечал, как некоторые железные дороги в Великобритании оказались не приспособлены к недавней волне жары. «Железнодорожные пути были спроектированы с учетом климата последних 50 лет», — сетует он, а не того климата, который есть сейчас и который ожидает нас в будущем.
Более того, поскольку митигация и адаптация были изолированы друг от друга, проекты, направленные на сокращение выбросов, иногда оказываются неспособными справиться с дополнительным теплом, штормами или подъемом воды. Например, если плотина строится для выработки большего количества электроэнергии за счет гидроэнергетики и меньшего количества за счет ископаемого топлива, она может выйти из строя, если засуха и уменьшение снежного покрова приведут к ослаблению течения реки. Кроме того, в некоторых местах плотина может увеличить популяцию комаров, переносящих малярию, и стать смертельной угрозой для живущих поблизости семей.

Неправильно спроектированный проект адаптации может усугубить человеческие страдания, а не облегчить их. В результате большая часть исследований адаптации теперь имеет сильную этическую и практическую основу, основанную на изучении человеческой уязвимости. Те, кто находится в плену нищеты, нестабильности, проблем со здоровьем, дискриминации, плохого жилья и целого ряда других потрясений, как правило, первыми почувствуют на себе последствия любого дополнительного тепла, стресса или стихийного бедствия. А если не учитывать наиболее уязвимых людей и места, это может поставить под угрозу здоровье и безопасность всех остальных.
На международном уровне политики и эксперты по-прежнему игнорируют главные вопросы о том, как помочь уязвимым адаптироваться — ради коллективного благополучия остальных людей на планете. Что произойдет, когда огромные регионы или даже целые нации будут вынуждены собираться и переезжать? Как это может вызвать политическую нестабильность повсюду или нарушить глобальные поставки продовольствия?
На заднем плане все еще звучат несколько голосов, настаивающих на том, что адаптации одной достаточно для решения нашего нынешнего бесконтрольного кризиса, — обычно это «сверхпривилегированные белые мужчины», — шутит Схиппер. Датский статистик и политолог Бьорн Ломборг давно настаивает, что люди легко адаптируются ко всему, что их ждет, независимо от степени экстремальности. В частых колонках в The Wall Street Journal Ломборг часто критикует экологов и климатологов и оспаривает их выводы, например, в комментарии «Адаптация гораздо эффективнее климатического регулирования в предотвращении последствий наводнений», и в другом: «Люди довольно неплохо приспосабливаются к окружающей среде, даже если она меняется. Держите это в уме, когда видите очередной тревожный заголовок о климатических катастрофах» (другой).
Хансен, которая теперь провела два десятилетия, исследуя стратегии адаптации, называет такие аргументы «явно абсурдными».
«При неконтролируемом развитии изменение климата невозможно адаптировать — то есть, мы настолько фундаментально изменим ландшафт планеты, что это станет невыполнимо».